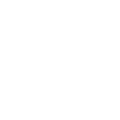Отречение Николая II от престола остаётся предметом дискуссий: многие обвиняют императора, многие не могут принять его как святого. Спустя более ста лет после отречения мы вспоминаем беседу с протоиереем Максим Козловым, ректором Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
— Отец Максим, считаете ли Вы отречение Николая II узловым моментом нашей истории?
— Несомненно, если воспользоваться солженицынской терминологией, самым значимым для русской истории сломом был переход от исторической российской монархической государственности к тому, что впоследствии имело и имеет место в разных формах. Сам этот слом есть, несомненно, центральный узел нашей новейшей истории и один из центральных — для всей истории России. Является ли в нём именно событие марта 1917 года главным — я не возьмусь сказать. Для этого нужно быть профессиональным историком, занимающимся реалиями российской действительности, вопросами политики начала ХХ столетия. Мне иной раз кажется, что к марту 1917 года все уже было достаточно ясно. Шли процессы, необратимость которых, собственно, была лишь засвидетельствована отречением. Я бы не рассматривал его как изолированный трагический акт, не случись которого, все могло бы развиться по некоему значительно более оптимистическому сюжету.
— В Вашей статье 1997 года, посвящённой отречению Государя и опубликованной тогда в журнале «Встреча», а в 2017 году — в «Татьянином дне», Вы сравниваете отречение с расторжением брака при очевидной измене народа своему царю. В какой мере Государь был ответствен за духовное состояние российского народа в то время? Правительство оказалось бессильно против либеральной прессы и либеральных настроений. Возможно ли было принять меры против распространявшейся тогда клеветы и антимонархической пропаганды? Вспомнить хотя бы — Вы, конечно, знакомы с ней — записку киевской общественности, полученную Николаем II только в январе 1917 года.
— Если развивать тот же образ, можно сказать: фактически нет или крайне редко встречаются разводы, в которых была бы виновата только одна сторона. В том числе и тот, кого предали или кому изменили, тот, кто в глазах других людей видится невиновным и пострадавшим, тоже несёт свою долю ответственности. Мне представляется (опять же, не как профессиональному историку, а скорее как человеку, для которого история России — это история моей страны, по отношении к которой я не могу ощущать себя кем-то внешним), что царь-страстотерпец был слишком хорошим человеком для своего времени. Слишком добрым, снисходительным, внутренне не готовым к жёсткости, доходящей до жестокости, и отталкивающимся от неё. Бывает, у снисходящего к немощам близкого семья в итоге разрушается именно потому, что он когда-то не стукнул кулаком по столу и не поставил на место того, кого можно было поставить. Вот это он не умел делать (оговоримся: в должной мере). Только мы должны понимать: если бы он умел это делать — хотя бы подобно своему отцу, — то это был бы другой человек. И, может быть, лучший монарх, но вряд ли святой, столь необходимый нам в десятилетия нашей последующей истории.
— Отец Максим, Вы только что сказали, что на Николая II смотрят как на невинного. Но скорее весьма распространённым является как раз — по-прежнему! — обвинение его в отречении, и взгляд на это как на предательство, даже нередко у православных.
— Мне представляется очевидным, что он засвидетельствовал — по крайней мере, для него несомненное — видение, что вещи нужно называть своими именами. Невозможно было сохранять видимость монархической государственности тогда, когда решительное большинство высших слоёв общества отвернулось от принципа реальной монархии, когда и в народе этот принцип (несение его как долга, осознание его как единственно правильного устроения государства) явно был фундаментально поколеблен (если не сказать более). Нужно было назвать вещи своими именами: не было более такого союза монарха и народа, каким союз этот был когда-то в предыдущие столетия. И это слово было Государем произнесено.
— Разве царь так думал?!
— Прежде всего, я имею в виду последствия, то, как это отозвалось в судьбах его и Родины. Он надеялся, конечно, на более оптимистические сюжеты, чем те, которые получили развитие. Но здесь-то и стоит вспомнить, что сердце монарха в руках Божиих (Прит. 21,1). Может быть, в этом акте он был больше себя самого как личности. Так Господь избранных Своих, в том числе и помазанников Своих в иных, наиболее значимых, актах их жизни делает по масштабу личности больше, чем во всё остальное время.
— Значит, Вы считаете, что в Тобольске, когда Государь, узнав о Брестском мире, задним числом сокрушался в своём отречении и, можно думать, сожалел о нём, он уже был более «просто человеком», чем в тот момент?
— Да, именно так. Ведь такого рода подъёмы не длятся долго. На Фаворе (если взять такое сравнение без каких-либо переносов) нельзя же быть продолжительное время. Так и всякий личностный подъём не может быть продолжительным — кроме состояния тех святых, которые достигли непадательности в добродетели. Но это другой тип святости.
— Вашему размышлению соответствуют слова Государя, которые он сказал в Могилеве, при прощании с офицерским составом, вскоре после отречения: «Такова воля Божия и следствие моего решения». В них можно видеть свидетельство молитвенной поддержки Государя при принятии им решения об отречении.
— Да, вот этого уж даже оппоненты (если говорить о трезвых оппонентах) не могут отрицать: чего-чего, а воли Божией он в своей жизни старался искать. Агностики или позитивисты поставят это ему в упрёк, скажут, что столь полагающийся на Бога (а не на экономику или политику) император был неуместен в начале ХХ века, но мы-то как православные люди хоть это ему в упрёк не поставим.
— Что Вы думаете, отец Максим, о явлении Державной иконы Божией Матери? Служит ли оно видимым подтверждением того, что событие, о котором мы говорим, произошло по воле Божией?
— Я не берусь толковать судьбы Божии в данном случае, поэтому ограничусь, как мне кажется, несомненным утверждением: явление Державной иконы Божией Матери было знаком, что Владычица неба и земли и в это время нашу Родину не оставит. И Церковь не оставит. А что это может означать более конкретно, быть может, мы в земной истории никогда и не узнаем.
— Возвращаясь к уже затронутой проблеме. До сих пор распространено обвинение царя в отречении и безразличие к тому, как это происходило в действительности, готовность некритически следовать расхожим представлениям и т.п., даже среди православных. Как с этим быть?
—Мне думается, тут большее нужно сказать. Имеет место неприятие типа личности Государя или сведение его святости только к последним месяцам его пребывания в заключении, что иные, прежде яростные оппоненты самой идеи канонизации, теперь выдвигают как свой основной тезис. Это в значительной мере проистекает из некоторой аберрации духовного зрения, из повреждения сознания, когда мы внутренне предпочитаем имперскую великую Россию святой Руси. Иногда они были тождественны, а иногда расходились. Так, весьма разномыслившая со своим шурином, преподобномученица Великая княгиня Елизавета Фёдоровна также накануне вершинного момента своей жизни могла сказать: «Великая Россия кончилась, а Святая Русь не кончится никогда». Порой мне кажется, что у наших патриотически настроенных соотечественников больше возникает тоска по внешне сильной имперскости, чем по высветленной духом православия Святой Руси. А император наш — святой — он-то как раз свидетельствовал о той Святой Руси, которая, по тем же словам Елизаветы Фёдоровны, не может быть побеждена.
— Отец Максим, вспоминаются удивительные слова, почему-то сказанные Государем при прощании с генералом Ивановым, перед отправкой его в Петроград: «Я спасал не самодержавие, а Россию». Эти слова как-то выбивались из всего контекста происходившего. Он ведь ещё не знал, что случится. Может быть, здесь также было у него наитие — в том плане, о котором Вы говорили?
— По крайней мере, эти слова точно оказались, в определённом смысле, пророческими, потому что самодержавие (высказываю свою частную точку зрения) уже было не спасти — не удержать хоть сколько-нибудь надолго — при общих катастрофах начала ХХ века. А Родине нашей, претерпевшей в последующие десятилетия весь ужас, все трагедии гонений на веру и Церковь со стороны безбожной власти, — вполне иррационально, вполне вопреки тому, что могут сказать позитивистски оценивающие факты истории учёные, — нужны были прежде всего святые. Святые молитвенники, а не кто-то иной или что-то иное.
Беседовал Андрей Мановцев
Источник: Татьянин день